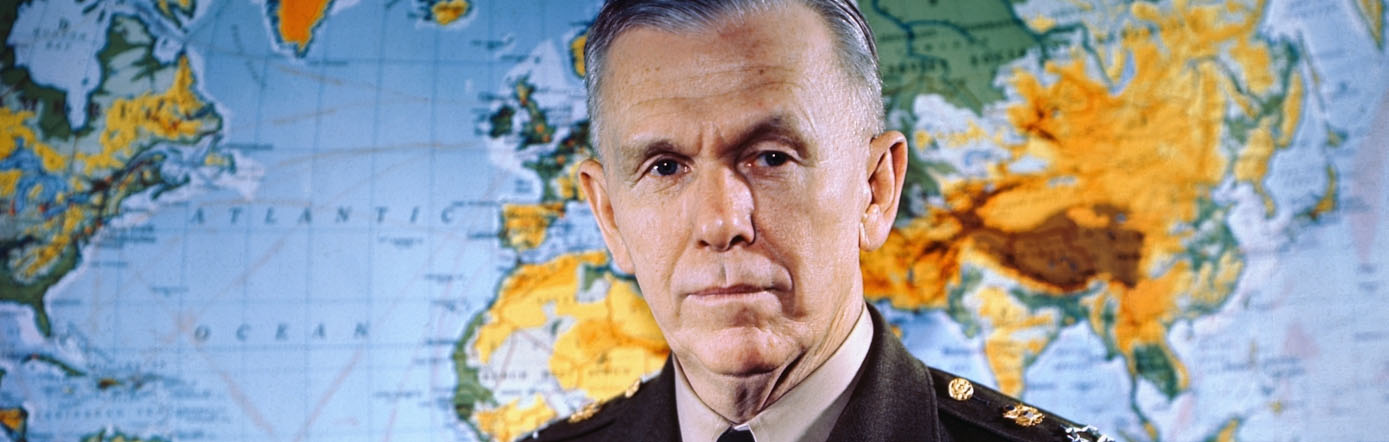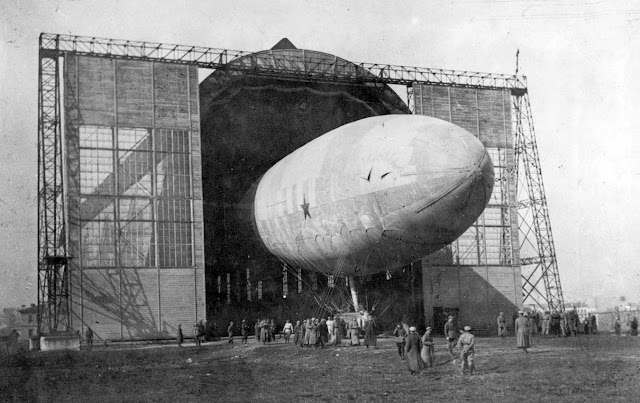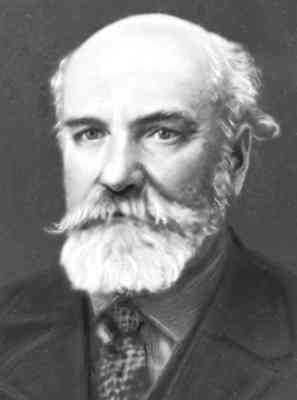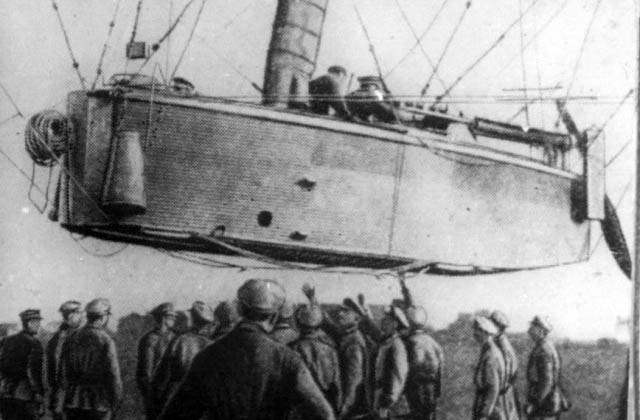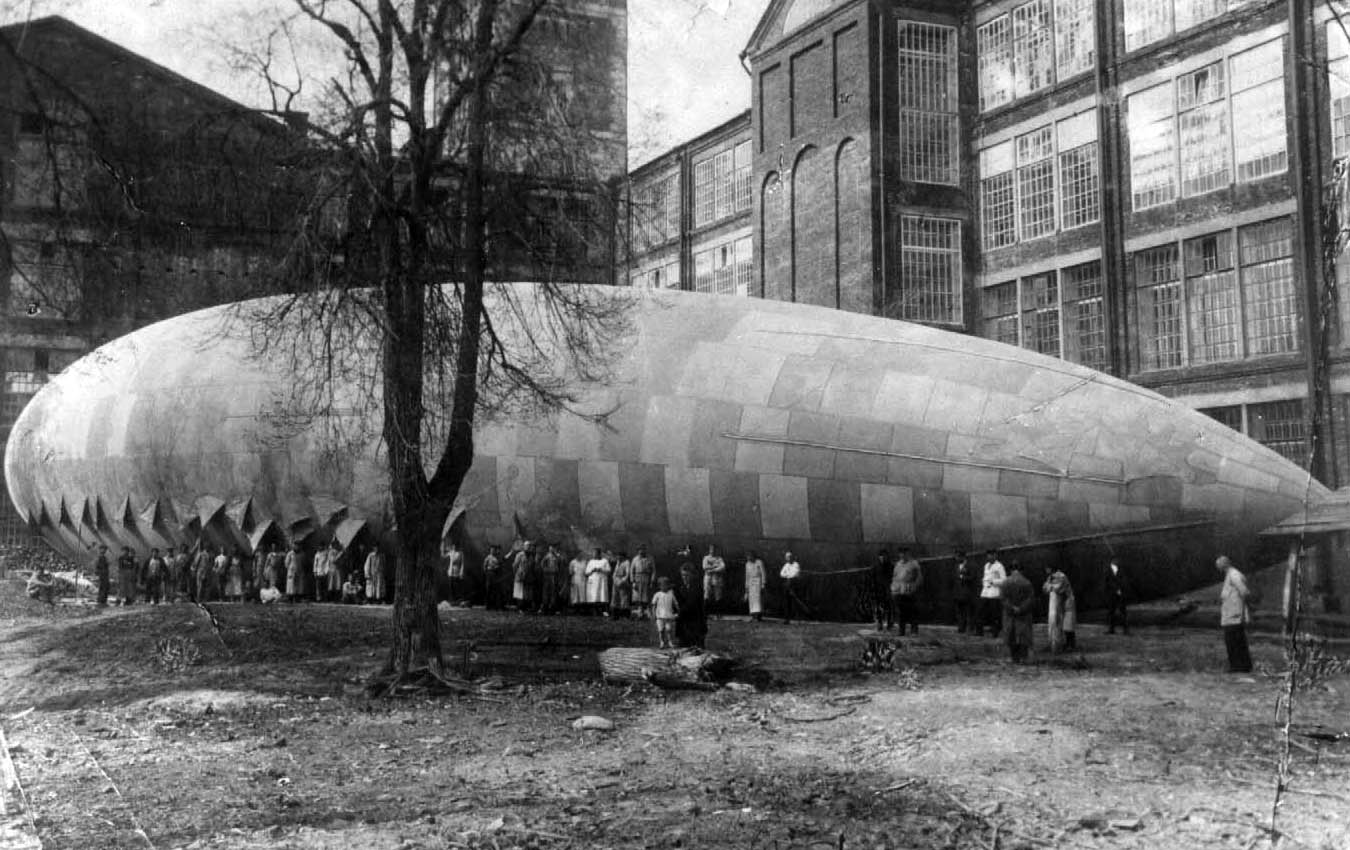...майор Денинг на страницах «Армейского Трехмесячника» противопоставляет французской идее полной войны — идею войны-гверильи (Guerilla Warfare): «В настоящее время перспективы больших войн отдаленны и маловероятны; наоборот, военной мысли надо готовиться к войне совсем другого типа, а именно — к войне-гверилье. Вот — самый современный из стратегических терминов. К сожалению, он до сих пор мало известен и понимается крайне расплывчато и туманно. Под этим термином одни понимают «малую войну», другие — «войну партизанскую»; третьи — «гражданскую войну». Но все эти определения ничего не определяют. Они ничего не говорят о самих военных свойствах этой войны, об ее характере, о приемах ее тактики, об особенностях ее стратегии, о содержании ее военно-политической работы. А, между тем, вопрос о гверилье назревает все больше и больше при современных политических условиях. Именно с этим типом войны придется иметь дело. И военной мысли необходимо, наконец, сосредоточиться на гверилье в ее современной обстановке и с ее современным техническим вооружением».
Многие смешивают представление о гверилье с представлением о малой войне. Денинг определяет гверилью, как войну, где «бойцы слабейшей стороны, или так называемые гверильясы, не образуют постоянных организованных войсковых соединений, соединяются только временно для выполнения данной задачи, и по выполнении ее снова исчезают в массе населения» Если гверильясы образовали постоянные войсковые части, то сама гверилья сейчас же теряет свой основной характер и превращается в «малую войну». Бурская война началась как малая волна и окончилась гверильей. Французские кампании в Марокко и в Сирии были малой войною. Ирландская война 1919-1921 года явила собою образец чистейшей гверильи.
Тактика сильнейшей стороны во время гверильи до сих пор всегда обосновывалась на использовании сильных и подвижных войсковых масс, которые действовали по определенным линиям и постепенно охватывали неприятельскую страну. Если эта территория слишком велика, то ее постепенный охват невозможен, и тогда сильнейшая сторона должна выжидать, когда гверильясы, увлеченные своими успехами и воображая себя достаточно сильными, организуются в крупные соединения; тогда эти соединения должны явиться объектом удара. Тактика гверильясов, наоборот, состояла всегда в том, чтобы действовать разрозненно. Но их постоянной ошибкою бывало то, что они теряли хладнокровие и пытались закончить войну, организуя из себя крупные войсковые части. Гверилья тогда превращалась в малую войну, и сильная сторона неизменно одерживала победу.
Непременным условием гверильи всегда была суровость и жестокость, проявлявшиеся с обеих сторон. В настоящее время это условие изменилось к невыгоде сильнейшей стороны (характерно, что Денинг называет сильнейшую сторону — «интервентом» и операции сильнейшей стороны — «интервенцией»). В настоящее время интервенту нельзя уже будет применять той жестокости, которая применялась раньше. Общественное мнение в стране интервента этого не потерпит, какую бы жестокость ни применяли сами гверильясы. При современных социальных условиях народ интервента не позволит своему правительству применять «варварских приемов при интервенции». Гверильясы же несомненно будут их применять. Кроме того, на стороне гверильясов теперь будет новое оружие, а именно — политическая пропаганда, которую гверильясы направят против армии и против тыла самого интервента (здесь Денинг под словом «тыл» подразумевает и даже проговаривается словом — «отечественный фронт интервента»).
Автор категорически утверждает, что самая задача гверильи в настоящее время совершенно видоизменилась. Раньше гверильясы возлагали надежду на систему «булавочных уколов» для деморализации и истощения личного состава сильной стороны. В настоящее время гверильясы будут возлагать надежду на затяжку войны и на финансовое истощение интервента. Главным объектом нападения для гверильясов явятся материальные средства интервента: его склады, поезда, мосты, дороги, запасы и пр. Интервент в настоящее время будет обладать весьма могущественным оружием, но это оружие очень дорого и требует очень ценных запасов. Стремясь к финансовому истощению противника, гверильясы будут затягивать войну и все время стараться наносить интервенту, главным образом, — материальный ущерб. Именно в этом заключается ахиллесова пята интервента в современной гверильясской войне. В 1921 году ирландские гверильясы применяли именно этот метод, и как-раз им-то и добивались наибольших успехов. Склады интервента при теперешних условиях очень громоздки и чрезвычайно уязвимы для нападения со стороны населения, которое, будучи достаточно гверильясизировано, может наносить интервенту колоссальные потери.
Следующей выгодою для современных гверильясов является мощное развитие техники изготовления бомб, автоматических пистолетов и взрывчатых веществ. Все эти новые роды оружия заключают в себе огромную потенциальную боевую мощь при малом объеме. Их легко прятать и легко опять доставать, когда понадобится. Они отвечают в полной мере основному принципу гверильи — быстро сосредоточивать вооруженную силу для данной операции и столь же быстро ее рассредоточивать по окончании операции.
Современное развитие техники доставляет, с другой стороны, некоторые преимущества и для интервента: механический транспорт увеличивает подвижность войск (впрочем, опыт ирландской гверильи показал, что при достаточной энергии, предприимчивости и смелости, гверильясам обыкновенно удается так основательно портить дороги и мосты, что подвижность механизированной армии интервента здесь значительно уменьшается); беспроволочный телеграф облегчает службу связи в армии сильной стороны и во многих случаях позволяет чрезвычайно быстро сосредоточиваться для отпора гверильясам; мощь современного автоматического оружия дает возможность во многих случаях довольствоваться сравнительно меньшими силами.
Сопоставляя все выгоды и невыгоды современного военного экипирования при гверилье, майор Денинг утверждает, что теперешняя обстановка будет все-таки гораздо выгоднее для гверильясов, чем она была при условиях прежней военной и политической техники.
Автор разбирает условия гверильи на: 1) небольшом и замкнутом театре, 2) на театре больших пространств и 3) на театре с большой плотностью населения и с крупными городами. Самой выгодной системою для небольших театров является система, которую Китченер осуществлял при войне в Оранжевой республике, а именно система постепенного захвата территории; при наличии крупных сил и значительных материальных средств у интервента война заканчивается сравнительно быстро. Захваченная территория укрепляется при помощи сооружения блокгаузов и затем исследуется при помощи полиции. На театре больших пространств этот способ, конечно, неприменим; здесь приходится использовать этот же способ, но не целиком для всей страны, а для определенных ее районов. Гверилья тут не может быть законченною быстро, и военные операции затягиваются обычно на долгое время; при достаточной энергии, изобретательности и настойчивости гверильясов успех интервента далеко не всегда может считаться обеспеченным. Особенно трудною для сильной стороны является гверилья в местности, где имеются крупные города, в роде, напр., Дублина в Ирландии. Здесь гверильясам открывается легкая возможность для политической пропаганды и для производства террористических актов. Главная работа у интервента выпадает тут на долю полиции; военные же действия сводятся главным образом к рейдам на подозрительные или скомпрометированные местности и участки территории. Командование интервента должно все время иметь в виду то обстоятельство, что здесь никоим образом нельзя раздражать населения; если войска интервента во время производства своих операций будут восстанавливать население против себя, то она только сыграют на руку гверильясов, так как этим они будут укреплять базу своего противника, увеличивать численность гверильясов и облегчать их работу политической пропаганды. Если, наоборот, командованию интервента удастся привлечь симпатии населения на свою сторону, то положение гверильясов сразу станет катастрофически-ослабленным. Это соображение является основным во всей «стратегии» гверильи.
Выбор наиболее подходящего к местным условиям образа действия, введение в дело сразу значительных сил, своевременное объявление военного положения и — особенно — широчайшее и самое всестороннее развитие разведочной службы (на последнем Денинг настаивает на всех страницах своего труда) — таковы основные принципы ведения войны против гверильясов.
Денинг, конечно, не претендует на то, чтобы охватить полностью все стороны вопроса о гверилье с ее тактикой, стратегией и военно-политической работою. Его цель заключается только в том, чтобы обратить внимание военных писателей на необходимость подумать и поработать над этой новою темою, которая при современных условиях настойчиво требует детального и всестороннего освещения.
Идея Денинга о «войне-гверилье» противопоставляет себя идее генерала Жиро о «полной войне», и в этом противопоставлении развертывает новый путь для исканий современной военной мысли.
Доливо-Добровольский Б. В зарубежных армиях (обзор) // Война и революция. 1927. № 4. С. 165-167.
paul-atrydes.livejournal.com/97980.html
Многие смешивают представление о гверилье с представлением о малой войне. Денинг определяет гверилью, как войну, где «бойцы слабейшей стороны, или так называемые гверильясы, не образуют постоянных организованных войсковых соединений, соединяются только временно для выполнения данной задачи, и по выполнении ее снова исчезают в массе населения» Если гверильясы образовали постоянные войсковые части, то сама гверилья сейчас же теряет свой основной характер и превращается в «малую войну». Бурская война началась как малая волна и окончилась гверильей. Французские кампании в Марокко и в Сирии были малой войною. Ирландская война 1919-1921 года явила собою образец чистейшей гверильи.
Тактика сильнейшей стороны во время гверильи до сих пор всегда обосновывалась на использовании сильных и подвижных войсковых масс, которые действовали по определенным линиям и постепенно охватывали неприятельскую страну. Если эта территория слишком велика, то ее постепенный охват невозможен, и тогда сильнейшая сторона должна выжидать, когда гверильясы, увлеченные своими успехами и воображая себя достаточно сильными, организуются в крупные соединения; тогда эти соединения должны явиться объектом удара. Тактика гверильясов, наоборот, состояла всегда в том, чтобы действовать разрозненно. Но их постоянной ошибкою бывало то, что они теряли хладнокровие и пытались закончить войну, организуя из себя крупные войсковые части. Гверилья тогда превращалась в малую войну, и сильная сторона неизменно одерживала победу.
Непременным условием гверильи всегда была суровость и жестокость, проявлявшиеся с обеих сторон. В настоящее время это условие изменилось к невыгоде сильнейшей стороны (характерно, что Денинг называет сильнейшую сторону — «интервентом» и операции сильнейшей стороны — «интервенцией»). В настоящее время интервенту нельзя уже будет применять той жестокости, которая применялась раньше. Общественное мнение в стране интервента этого не потерпит, какую бы жестокость ни применяли сами гверильясы. При современных социальных условиях народ интервента не позволит своему правительству применять «варварских приемов при интервенции». Гверильясы же несомненно будут их применять. Кроме того, на стороне гверильясов теперь будет новое оружие, а именно — политическая пропаганда, которую гверильясы направят против армии и против тыла самого интервента (здесь Денинг под словом «тыл» подразумевает и даже проговаривается словом — «отечественный фронт интервента»).
Автор категорически утверждает, что самая задача гверильи в настоящее время совершенно видоизменилась. Раньше гверильясы возлагали надежду на систему «булавочных уколов» для деморализации и истощения личного состава сильной стороны. В настоящее время гверильясы будут возлагать надежду на затяжку войны и на финансовое истощение интервента. Главным объектом нападения для гверильясов явятся материальные средства интервента: его склады, поезда, мосты, дороги, запасы и пр. Интервент в настоящее время будет обладать весьма могущественным оружием, но это оружие очень дорого и требует очень ценных запасов. Стремясь к финансовому истощению противника, гверильясы будут затягивать войну и все время стараться наносить интервенту, главным образом, — материальный ущерб. Именно в этом заключается ахиллесова пята интервента в современной гверильясской войне. В 1921 году ирландские гверильясы применяли именно этот метод, и как-раз им-то и добивались наибольших успехов. Склады интервента при теперешних условиях очень громоздки и чрезвычайно уязвимы для нападения со стороны населения, которое, будучи достаточно гверильясизировано, может наносить интервенту колоссальные потери.
Следующей выгодою для современных гверильясов является мощное развитие техники изготовления бомб, автоматических пистолетов и взрывчатых веществ. Все эти новые роды оружия заключают в себе огромную потенциальную боевую мощь при малом объеме. Их легко прятать и легко опять доставать, когда понадобится. Они отвечают в полной мере основному принципу гверильи — быстро сосредоточивать вооруженную силу для данной операции и столь же быстро ее рассредоточивать по окончании операции.
Современное развитие техники доставляет, с другой стороны, некоторые преимущества и для интервента: механический транспорт увеличивает подвижность войск (впрочем, опыт ирландской гверильи показал, что при достаточной энергии, предприимчивости и смелости, гверильясам обыкновенно удается так основательно портить дороги и мосты, что подвижность механизированной армии интервента здесь значительно уменьшается); беспроволочный телеграф облегчает службу связи в армии сильной стороны и во многих случаях позволяет чрезвычайно быстро сосредоточиваться для отпора гверильясам; мощь современного автоматического оружия дает возможность во многих случаях довольствоваться сравнительно меньшими силами.
Сопоставляя все выгоды и невыгоды современного военного экипирования при гверилье, майор Денинг утверждает, что теперешняя обстановка будет все-таки гораздо выгоднее для гверильясов, чем она была при условиях прежней военной и политической техники.
Автор разбирает условия гверильи на: 1) небольшом и замкнутом театре, 2) на театре больших пространств и 3) на театре с большой плотностью населения и с крупными городами. Самой выгодной системою для небольших театров является система, которую Китченер осуществлял при войне в Оранжевой республике, а именно система постепенного захвата территории; при наличии крупных сил и значительных материальных средств у интервента война заканчивается сравнительно быстро. Захваченная территория укрепляется при помощи сооружения блокгаузов и затем исследуется при помощи полиции. На театре больших пространств этот способ, конечно, неприменим; здесь приходится использовать этот же способ, но не целиком для всей страны, а для определенных ее районов. Гверилья тут не может быть законченною быстро, и военные операции затягиваются обычно на долгое время; при достаточной энергии, изобретательности и настойчивости гверильясов успех интервента далеко не всегда может считаться обеспеченным. Особенно трудною для сильной стороны является гверилья в местности, где имеются крупные города, в роде, напр., Дублина в Ирландии. Здесь гверильясам открывается легкая возможность для политической пропаганды и для производства террористических актов. Главная работа у интервента выпадает тут на долю полиции; военные же действия сводятся главным образом к рейдам на подозрительные или скомпрометированные местности и участки территории. Командование интервента должно все время иметь в виду то обстоятельство, что здесь никоим образом нельзя раздражать населения; если войска интервента во время производства своих операций будут восстанавливать население против себя, то она только сыграют на руку гверильясов, так как этим они будут укреплять базу своего противника, увеличивать численность гверильясов и облегчать их работу политической пропаганды. Если, наоборот, командованию интервента удастся привлечь симпатии населения на свою сторону, то положение гверильясов сразу станет катастрофически-ослабленным. Это соображение является основным во всей «стратегии» гверильи.
Выбор наиболее подходящего к местным условиям образа действия, введение в дело сразу значительных сил, своевременное объявление военного положения и — особенно — широчайшее и самое всестороннее развитие разведочной службы (на последнем Денинг настаивает на всех страницах своего труда) — таковы основные принципы ведения войны против гверильясов.
Денинг, конечно, не претендует на то, чтобы охватить полностью все стороны вопроса о гверилье с ее тактикой, стратегией и военно-политической работою. Его цель заключается только в том, чтобы обратить внимание военных писателей на необходимость подумать и поработать над этой новою темою, которая при современных условиях настойчиво требует детального и всестороннего освещения.
Идея Денинга о «войне-гверилье» противопоставляет себя идее генерала Жиро о «полной войне», и в этом противопоставлении развертывает новый путь для исканий современной военной мысли.
Доливо-Добровольский Б. В зарубежных армиях (обзор) // Война и революция. 1927. № 4. С. 165-167.
paul-atrydes.livejournal.com/97980.html